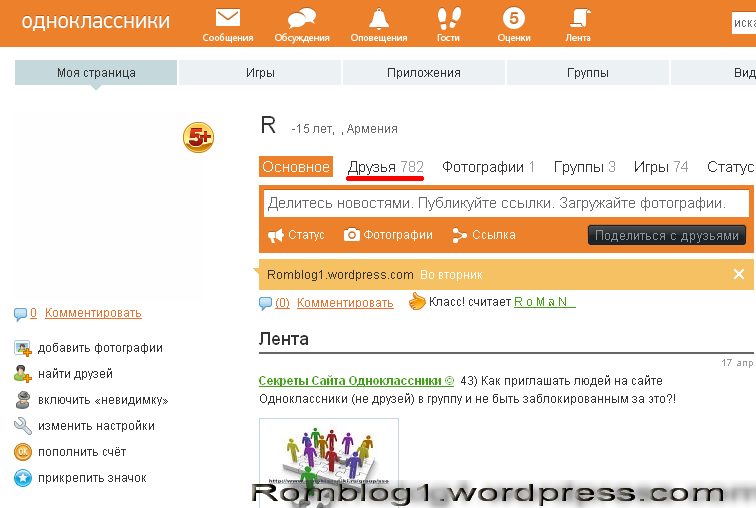одноклассники дразнили Путина – аналитический портал ПОЛИТ.РУ
Отец — Владимир Спиридонович Путин, мать — Путина Мария Ивановна. Эти данные занесены в метрике Президента РФ Владимира Путина. Однако накануне 2000 года в грузинской прессе промелькнула сенсационная на первый взгляд информация, в которой сообщалось, что биологической матерью Путина является женщина из села Метехи, пригорода Тбилиси. Эту новость тут же подхватили западные СМИ, греческая и немецкая телекомпании выпустили часовой фильм о жизни старушки, представители чеченской диаспоры опубликовали книгу “Тайная биография президента России”, Артем Боровик взялся готовить программу, посвященную якобы настоящей матери Путина, но на российском телевидении полную версию фильма запретили.
История была основательно подзабыта, пока российская газета «Московский Комсомолец» не провела собственное расследование и не отчиталась об этом в сегодняшнем номере. Вот некоторые отрывки из материала.
О женщине, выдающей себя за мать российского президента, в Грузии слышали все: «Мать Путина?! Знаю-знаю, она действительно живет у нас. Честная такая женщина, скромная, видно, и сына своего любит, хоть и не видела его много лет, — разболтался местный таксист по дороге из тбилисского аэропорта. — Я к ней хоть сейчас могу отвезти, тем более что мои родственники поселились неподалеку от ее деревушки…»
Честная такая женщина, скромная, видно, и сына своего любит, хоть и не видела его много лет, — разболтался местный таксист по дороге из тбилисского аэропорта. — Я к ней хоть сейчас могу отвезти, тем более что мои родственники поселились неподалеку от ее деревушки…»
Причем все местное население убеждено в подлинности истории своей землячки, Веры Путиной: «такую легенду пожилому человеку не выдумать». Грузинам удалось убедить в своей правоте Европу и Америку.
Дочь Путиной Софико Осепашвили, медсестра Тбилисского туберкулезного диспансера, заявила, что мать не дает интервью и сожалеет, что «открыли нашу семейную тайну всему миру»: «Теперь живем как на пороховой бочке — вздрагиваем от каждого телефонного звонка. Я даже опасаюсь маму одну оставлять. Мы стали бояться по вечерам на улицу выходить. Ведь в наш адрес немало угроз поступало…»
Село Метехи Каспского района пользуется популярностью у западных журналистов. Русских же «мать Путина» встречает неласково: «Я понимаю, что большинству моя история покажется неправдоподобной, — говорит Вера Николаевна. — Многие принимают меня за сумасшедшую. Но ведь моего сына знало все село. Просто однажды я его потеряла и никак не могла разыскать. А когда Володю, спустя много лет, первый раз показали по телевизору, так ко мне со всех дворов соседи сбежались. “Вера, так это же нашенский Вовка!” — кричали они. Я как глянула на него — так ахнула. Это глаза могут подвести, а материнское сердце — никогда…»
— Многие принимают меня за сумасшедшую. Но ведь моего сына знало все село. Просто однажды я его потеряла и никак не могла разыскать. А когда Володю, спустя много лет, первый раз показали по телевизору, так ко мне со всех дворов соседи сбежались. “Вера, так это же нашенский Вовка!” — кричали они. Я как глянула на него — так ахнула. Это глаза могут подвести, а материнское сердце — никогда…»
«Мы ведь с сыночком похожи как две капли воды. У нас, говорят, и походка одна — точно утиная, и глаза серые. Я чувствую свою вину перед сыном, но поступи я тогда иначе, он бы никогда не выбился в люди, — перебирает носовой платок собеседница. — А оно видишь, как повернулось. Когда-то я от него отказалась, а сегодня он не желает со мной знаться. Впрочем это долгая история. Вы готовы ее выслушать?..»
Путина Вера Николаевна родилась 6 сентября 1926 года. Место рождения — деревня Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. …Деревни, в которой родилась Вера Путина, давно уже не существует на карте области: ее объединили с одним из городов Пермского края.
Отцом президента она называет некоего Платона Привалова — местного алкоголика: «Молодой я была, вот и купилась на его комплименты. Мы ведь даже жить с ним вместе начали, хотели семью создать, — вспоминает Вера Николаевна. — Когда я забеременела, выяснилось, что Платон уже давно был женат на другой. Только вот родить его супруга никак не могла. Тогда он решил меня обрюхатить, а ребенка — выкрасть. Он позже сам в этом признался. Хорошо, я от него вовремя сбежала. Так что отца у моего сына, считайте, не было».
Ребенок Веры появился на свет в сентябре 1950 года. Мальчика назвали Володей. Фамилию мать дала свою. Через год Вера рванула в Ташкент на преддипломную практику. Сына оставила на родителей. Там юная девушка познакомилась с грузинским парнем Георгием Осипашвили, который проходил воинскую службу в тех краях. Через месяц он приехал на Урал за невестой, и с тех пор Вера Путина живет в Грузии.
После рождения первых двух девочек-погодок старший сын Веры стал лишним в грузинском доме.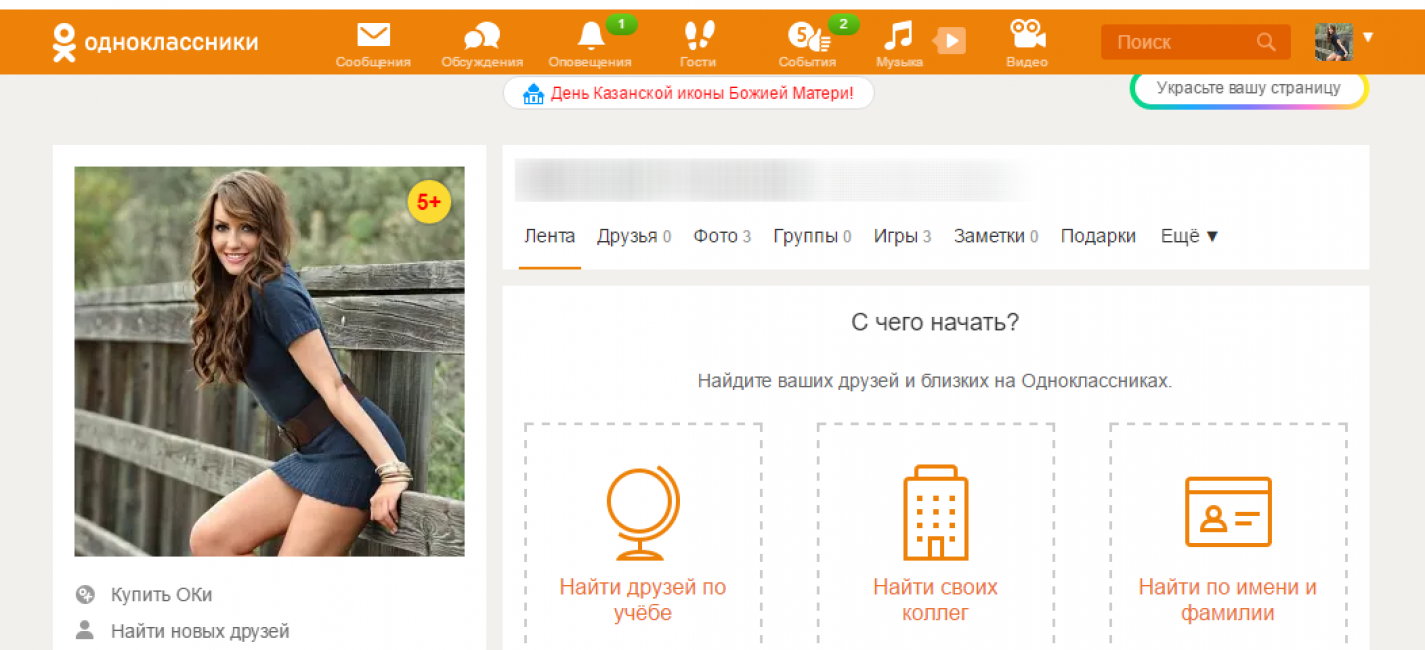 «Вова прожил здесь до девяти лет, а потом он неожиданно пропал, — вспоминает сосед Путиной Мамуко. — Я знаю, что отец недолюбливал пасынка. Бывало, и палкой его поколотит, и из дома на холод выставит, штаны парень всегда носил с заплатками — родители на нем экономили… Никто не осуждал Георгия. Мы, грузины, народ гордый. Кому охота чужого сына поднимать? Да еще когда за твоей спиной все насмехаются. Мол, притащила Верка в подоле, от кого — не помнит… Долго терпел Гога. Но, видимо, не выдержал стыда. Велел жене избавиться от ребенка».
«Вова прожил здесь до девяти лет, а потом он неожиданно пропал, — вспоминает сосед Путиной Мамуко. — Я знаю, что отец недолюбливал пасынка. Бывало, и палкой его поколотит, и из дома на холод выставит, штаны парень всегда носил с заплатками — родители на нем экономили… Никто не осуждал Георгия. Мы, грузины, народ гордый. Кому охота чужого сына поднимать? Да еще когда за твоей спиной все насмехаются. Мол, притащила Верка в подоле, от кого — не помнит… Долго терпел Гога. Но, видимо, не выдержал стыда. Велел жене избавиться от ребенка».
Дедушка Володи, старый большевик, тоже не принял незаконнорожденного внука и в тайне от дочери пристроил ребенка в интернат: «Куда отдали сына, мои родители так и не сказали. Мама перед смертью призналась, что Вова сам отказался от меня и просил не сообщать об его местонахождении. Я сама не могла его разыскивать. Узнал бы муж — убил бы! А о том, что Володя спустя много лет устроился в КГБ, мне кто-то из наших бывших соседей по деревне проболтался. Видимо, тогда же сын и отчество сменил, и дату рождения с 50-го на 52-й переправил».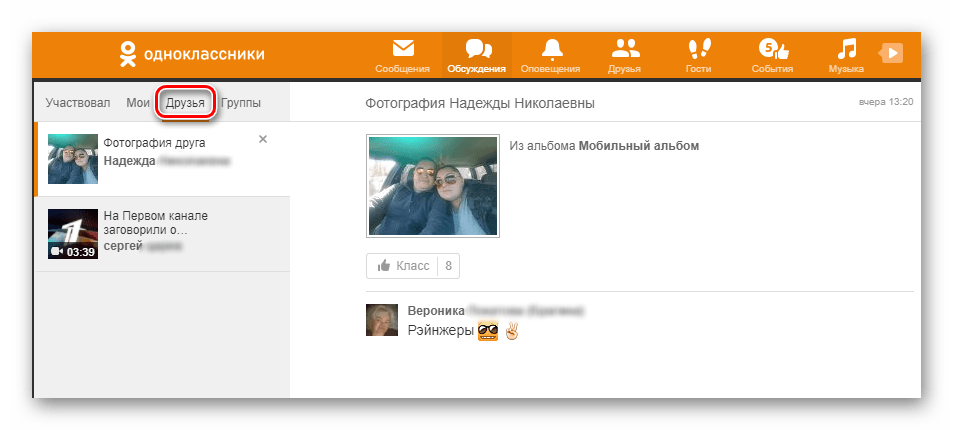
Женщина сильно тосковала по сыну, пишет газета. Когда Владимир Путина назначили президентом, Вера Путина на последние деньги купила телевизор, чтобы каждый день на него любоваться.
Все фотографии «маленького Вовы», утверждает женщина, у нее забрали полномочный представитель Чеченской Республики Ичкерия в Грузии Хизир Алдамов и Ваха Ибрагимов. «Это они придумали версию, что мои родители отдали сына какому-то бездетному родственнику Владимиру Спиридоновичу Путину из Ленинграда. Но я точно знаю: в нашей родне никогда не было человека с такими инициалами!»
Между прочим, в Бостоне нашелся историк, который долгое время занимался биографией Путина и сотрудничал с Ибрагимовым. Юрий Фельштинский — доктор исторических наук, доктор философии, в 1993 году защитил докторскую диссертацию в Институте истории Российской академии наук (РАН). Также он является редактором-составителем и комментатором нескольких десятков томов архивных документов.
Он тоже считает сомнительной официальную биографию Путина.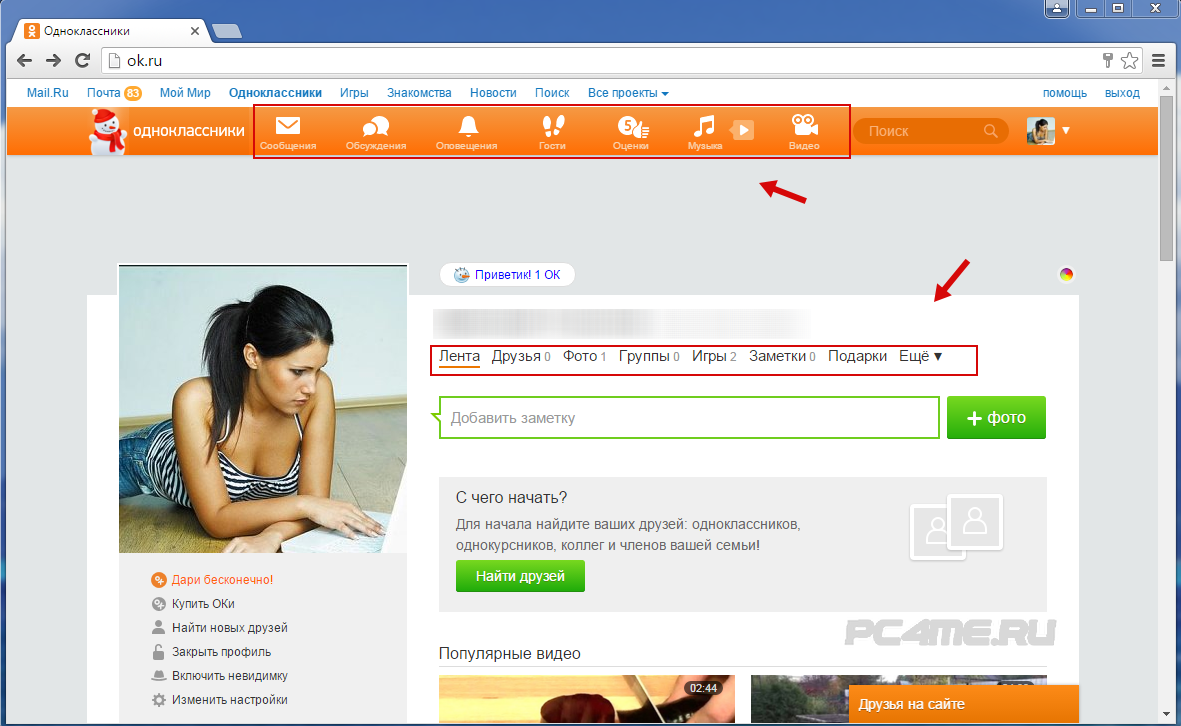 «Меня сильно смутила официальная биография президента, где сказано, что его мать — Мария Путина — родила Володю в очень позднем возрасте. Известно, что в Советском Союзе женщины не решались рожать после сорока лет (на тот момент Путиной М.И. стукнул 41 год. — И.Б.). Кроме того, в официальных российских биографиях отсутствуют сведения о Владимире Путине до момента его поступления в первый класс школы».
«Меня сильно смутила официальная биография президента, где сказано, что его мать — Мария Путина — родила Володю в очень позднем возрасте. Известно, что в Советском Союзе женщины не решались рожать после сорока лет (на тот момент Путиной М.И. стукнул 41 год. — И.Б.). Кроме того, в официальных российских биографиях отсутствуют сведения о Владимире Путине до момента его поступления в первый класс школы».
Единственной крупной телекомпанией России, заинтересовавшейся этой темой, оказалось грузинское НТВ, но и оно побоялось пускать этот сюжет в эфир. В марте 2000 года в авиакатастрофе погибли президент холдинга “Совершенно секретно” Артем Боровик и крупный чеченский бизнесмен Зия Бажаев. Ваха Ибрагимов заверил тогда историка Фельштинского и представителей западных СМИ, что Боровик погиб после того, как получил в свое распоряжение информацию о матери Путина, переданную Боровику через Бажаева.
За какие-то три месяца Вере Путиной удалось прославить село Метехи на весь мир. Особой популярностью это место сегодня пользуется у иностранных туристов, заказывающих отдельную экскурсию на “родину российского президента”. Чтобы посмотреть на дом, где жил Путин, половить рыбу на озере, где сидел с удочкой президент, пообщаться с друзьями детства ВВП, туристы выкладывают бешеные деньги. А за эксклюзивный фильм “Мама Путина”, отснятый греческими журналистами, грузинские гиды берут с приезжих по пятьдесят евро.
Чтобы посмотреть на дом, где жил Путин, половить рыбу на озере, где сидел с удочкой президент, пообщаться с друзьями детства ВВП, туристы выкладывают бешеные деньги. А за эксклюзивный фильм “Мама Путина”, отснятый греческими журналистами, грузинские гиды берут с приезжих по пятьдесят евро.
— Я хорошо помню Вовку. В школе мы были отличниками, потому и дружили, — делится воспоминаниями Габриэль Даташвили, ныне начальник проектной организации Каспского района. — Кроме меня, у него не было друзей. Он рос тихим и скрытным ребенком. После уроков часто уходил на рыбалку или приходил ко мне, и мы играли вместе в войнушку, в лахти, занимались фехтованием.
Нора Гоголашвили, школьная учительница Путина, тоже не сомневается, что Президентом России стал именно ее ученик: «Вова был тихим, неразговорчивым мальчиком, — говорит женщина. — С ребятами практически не общался. Из игр предпочитал борьбу. Одноклассники дразнили его “приемышем”. Я всегда защищала его, уж очень жалким он казался».
Сама Вера Путина охотно позирует для туристов. Она хранит под подушкой единственную фотографию 14-летнего сына, вырванную из книги ВВП “От первого лица”. «Прости меня, сыночек, но, наверное, я поступила правильно, — всхлипывает Вера Николаевна. — Останься ты здесь, то никогда бы не выбился в люди. Я все сделала для твоего блага. Вы знаете, — обращается ко мне, — мне ведь от него ничего не нужно. Я счастлива, что у него все хорошо. А повидаться с ним мне, видно, уже не доведется. Старая я стала. Помру не сегодня–завтра. Не успеет он ко мне приехать. Да нельзя ему пока… «
В конце газета все же разоблачает «сенсацию». История, которую рассказала Вера Путина, — абсолютно реальная, но речь идет все же об однофамильце и тезке президента.
Сотрудники единственного Очерского детского дома Пермской области подняли архивные данные, где обнаружили карточку на бывшего выпускника интерната Путина Владимира Платоновича. Дата рождения — 17 сентября 1950 года. В графе “мать” указано — проживает в Грузии, точные данные неизвестны. В графе “отец” — прочерк. «Путин выбыл из нашего детдома в 1968 году [когда В.В.Путин готовился поступать в ЛГУ. — прим. ред.] в ГПТУ №62, что находится в городе Чернушка, — сообщил директор детского дома. — По всей вероятности, молодой человек какое-то время жил в общежитии при том училище». В общежитии подтвердили, что он поступил 15 января 68-го года. По окончании учебы устроился работать помощником бурильщика разведочной конторы бурения №7. Бывший коллега Путина Анатолий Боярышников сообщил, что пятнадцать лет назад тот покинул город. «Работы у нас совсем не стало, а ему надо было семью кормить, ведь у него две дочери подрастали. Вовка собирался податься на заработки куда-то на север».
В графе “отец” — прочерк. «Путин выбыл из нашего детдома в 1968 году [когда В.В.Путин готовился поступать в ЛГУ. — прим. ред.] в ГПТУ №62, что находится в городе Чернушка, — сообщил директор детского дома. — По всей вероятности, молодой человек какое-то время жил в общежитии при том училище». В общежитии подтвердили, что он поступил 15 января 68-го года. По окончании учебы устроился работать помощником бурильщика разведочной конторы бурения №7. Бывший коллега Путина Анатолий Боярышников сообщил, что пятнадцать лет назад тот покинул город. «Работы у нас совсем не стало, а ему надо было семью кормить, ведь у него две дочери подрастали. Вовка собирался податься на заработки куда-то на север».
«Надо, чтобы во фронтовых буднях была какая-то «частица неба»
«Отношение к вере в воюющем Донбассе особое. Для меня и моих товарищей глубоко символично то, какой популярностью пользуются в зоне СВО шевроны с Казанской иконой Божией Матери. А ведь что такое шеврон для бойца? Для участника спецоперации он в чем-то соответствует твоему статусу, это твое внутреннее настроение», — говорит священник из РТ иерей Василий Имуков, один из представителей военного духовенства Чистопольской епархии.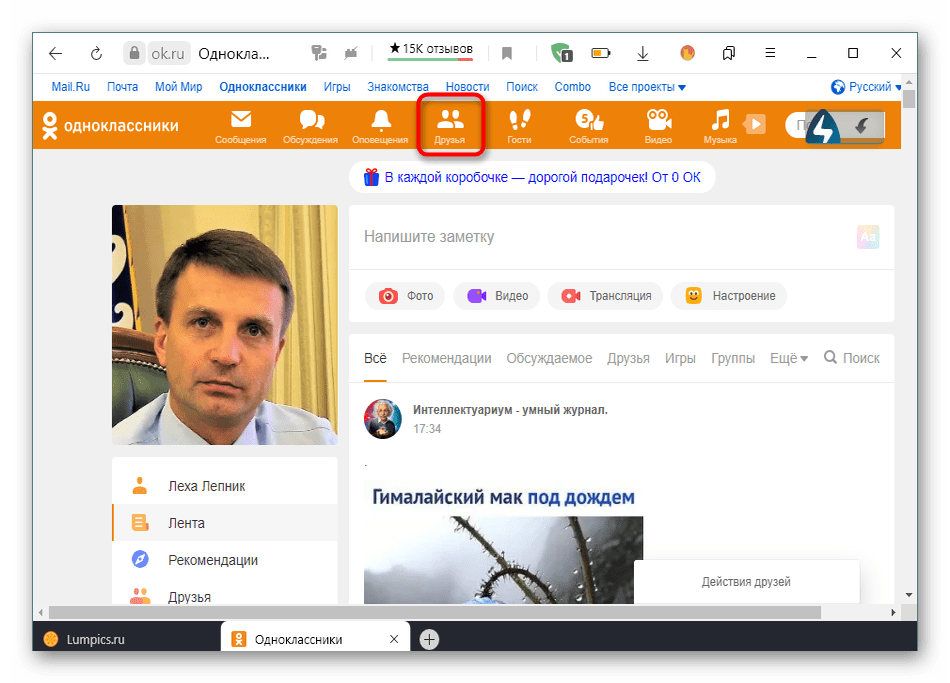 О том, трудно ли отслужить церковную литургию в военно-полевых условиях, зачем «духовному воину» нужны каска и бронежилет и много ли бойцов принимают крещение прямо на фронте, татарстанские военные священники рассказали корреспонденту «БИЗНЕС Online».
О том, трудно ли отслужить церковную литургию в военно-полевых условиях, зачем «духовному воину» нужны каска и бронежилет и много ли бойцов принимают крещение прямо на фронте, татарстанские военные священники рассказали корреспонденту «БИЗНЕС Online».
Ростислав Икрамов: «Мы духовные воины, наши законы прописаны в Священном писании, и мы обязаны действовать здесь и сейчас, отдавая свою судьбу на волю Господа»
«Чистопольская епархия встала на военные рельсы»
Скоро при одном из военных полигонов Луганской области появится православный походный храм, организованный военными священниками Чистопольской епархии. Храм не будет иметь никакого адреса, как не имеют адресов военно-полевые госпитали и штабы, локация которых полностью зависит от передвижения войск. Скажем так: если армия наступает, то и походный храм следом за ней отважно идет в атаку, двигаясь во втором или третьем воинском «эшелоне». Если же противник начинает одолевать, то храм вместе с солдатами держит оборону, «окапывается» в ближайшем тылу, ободряет и духовно поддерживает бойцов. Т. е. это своего рода штатная армейская единица, хотя формально дело обстоит, конечно, иначе. Формально все существует по отдельности: церковь у нас отделена от государства, а значит, и от вооруженных сил. «Но, если мы будем оставаться порознь, мы вряд ли кого-то победим», — убеждены военные священники. А вот вместе вопреки всем условностям и инструкциям — «сим победиши» (согласно церковному преданию, римский император Константин накануне решающей битвы с врагом увидел на небе фразу «Сим победиши» вместе с изображением креста и победил).
Если же противник начинает одолевать, то храм вместе с солдатами держит оборону, «окапывается» в ближайшем тылу, ободряет и духовно поддерживает бойцов. Т. е. это своего рода штатная армейская единица, хотя формально дело обстоит, конечно, иначе. Формально все существует по отдельности: церковь у нас отделена от государства, а значит, и от вооруженных сил. «Но, если мы будем оставаться порознь, мы вряд ли кого-то победим», — убеждены военные священники. А вот вместе вопреки всем условностям и инструкциям — «сим победиши» (согласно церковному преданию, римский император Константин накануне решающей битвы с врагом увидел на небе фразу «Сим победиши» вместе с изображением креста и победил).
— Мы организуем походный храм в несколько этапов, — рассказывает иерей Ростислав Икрамов. — Моя задача — первым приехать на место, взять на себя организационные моменты и подготовку самого помещения. Следом за мной приезжают отец Василий Имуков и отец Тимофей Маташов, привозят церковную утварь и оборудование. А уже потом отец Андрей Зиньков, курирующий всю нашу работу, вместе с нами проводит первое богослужение.
А уже потом отец Андрей Зиньков, курирующий всю нашу работу, вместе с нами проводит первое богослужение.
— А как много требуется литургического инвентаря для походного храма?
— Самое главное, что необходимо, — это престол для алтаря и распятие, иконы, аналой и так далее. Но утвари у нас будет по минимуму. Чтобы можно было быстро «развернуть» храм в какой-нибудь большой палатке или заброшенном доме и так же быстро потом собрать его для переезда на новое место, — поясняет собеседник.
Иерей Икрамов — сотрудник отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Чистопольской епархии. Возглавляет отдел протоиерей Андрей Зиньков, человек хорошо известный и уважаемый в православном Татарстане. Помимо прочего, он также руководитель епархиального отдела физкультуры и спорта и обладатель «золотого пояса — алтын билбау» в области боевых искусств по итогам 2022 года. Это сказывается на его выправке и физической форме: она отменная, хотя сейчас вместо регулярных упражнений и тренировок ему все больше выпадает отгрузка коробок с гуманитарной помощью да рискованные командировки в зону СВО. Впрочем, практически все сотрудники Зинькова — люди на редкость спортивные, физически крепкие и уже стяжавшие себе репутацию как среди прихожан, так и среди военных, с которыми им приходится постоянно работать. Это уже упомянутые иерей Василий Имуков и иерей Тимофей Маташов, а также не имеющий священнического сана Александр Морозов. Многие из них уже не по разу посетили зону спецоперации. К примеру, Икрамов совершил туда к настоящему моменту 16 командировок.
Помимо прочего, он также руководитель епархиального отдела физкультуры и спорта и обладатель «золотого пояса — алтын билбау» в области боевых искусств по итогам 2022 года. Это сказывается на его выправке и физической форме: она отменная, хотя сейчас вместо регулярных упражнений и тренировок ему все больше выпадает отгрузка коробок с гуманитарной помощью да рискованные командировки в зону СВО. Впрочем, практически все сотрудники Зинькова — люди на редкость спортивные, физически крепкие и уже стяжавшие себе репутацию как среди прихожан, так и среди военных, с которыми им приходится постоянно работать. Это уже упомянутые иерей Василий Имуков и иерей Тимофей Маташов, а также не имеющий священнического сана Александр Морозов. Многие из них уже не по разу посетили зону спецоперации. К примеру, Икрамов совершил туда к настоящему моменту 16 командировок.
— Что возите в Донбасс? — интересуюсь я.
Т.М.: В основном печки-буржуйки, маскировочные сети, мобильные кухни, тактические аптечки, окопные фонарики, теплую одежду и многое другое.
Р.И.: Доставкой гуманитарки в Донбасс сейчас занимаются многие люди. Да и не только гуманитарки — поставляют квадрокоптеры, тепловизоры и прочее. Но мы как-то сразу для себя решили, что займем среднюю нишу бытового обеспечения наших военнослужащих. Никто ведь не купит им шуроповерт или бензопилу, подставки для генераторов и так далее. Мы порой стараемся даже отказаться от сложных вещей ради простых. Наша задача — чтобы солдат был в тепле, одет, снабжен тактической аптечкой и чтобы ему по возможности было комфортно.
Интересно, что «окопные» печи-буржуйки изготавливают для бойцов прямо в Чистополе и не на каком-нибудь специализированном предприятии, а в кружке «Юный сварщик», которым руководит Морозов. Всего «юные сварщики» вместе со своими взрослыми наставниками произвели уже более 100 печей-буржуек. Также собственными усилиями плетутся маскировочные сети, мастерятся тактические носилки, собираются тактические аптечки, шьется термобелье. Не так давно активисты собрали и отправили в Донбасс целую мобильную баню — деревянный цилиндр величиной с торпеду или же маленькую подводную лодку. Как любит говорить Зиньков, Чистопольская епархия сейчас встала на военные рельсы, и не на словах, а на деле. Впрочем, слово и духовное наставление для участников спецоперации тоже очень нужны и, может быть, даже в большей степени, чем сети, буржуйки и печи. Вот для этого и создается сейчас походный храм.
Всего «юные сварщики» вместе со своими взрослыми наставниками произвели уже более 100 печей-буржуек. Также собственными усилиями плетутся маскировочные сети, мастерятся тактические носилки, собираются тактические аптечки, шьется термобелье. Не так давно активисты собрали и отправили в Донбасс целую мобильную баню — деревянный цилиндр величиной с торпеду или же маленькую подводную лодку. Как любит говорить Зиньков, Чистопольская епархия сейчас встала на военные рельсы, и не на словах, а на деле. Впрочем, слово и духовное наставление для участников спецоперации тоже очень нужны и, может быть, даже в большей степени, чем сети, буржуйки и печи. Вот для этого и создается сейчас походный храм.
«Мы православные священники, и значит, наша главная задача — духовная миссия. Появится у нас мобильный храм — будем проводить там литургии, крестить, исповедовать и причащать»
«Нельзя совсем не бояться, но можно забывать об этом ради чего-то более важного»
Еще в прошлом году, по словам Зинькова, он и сотоварищи приобрели «убитый» «КАМАЗ» — хотели из него по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла (Наконечного) сделать «храм на колесах». Но машина понадобилась по прямому назначению — собирать по всему Татарстану гуманитарную помощь и свозить ее на склады для дальнейшей транспортировки в Донбасс. Но благодаря этому тяжелому и мощному, как танк, грузовику у священников впервые появилась идея походного храма. «Ведь наши поездки должны совершаться не только с целью доставить гуманитарный груз, но и исполнить свое прямое назначение, — говорит Зиньков. — А оно понятно: мы православные священники, и значит, наша главная задача — духовная миссия. Появится у нас мобильный храм — будем проводить там литургии, крестить, исповедовать и причащать».
Но машина понадобилась по прямому назначению — собирать по всему Татарстану гуманитарную помощь и свозить ее на склады для дальнейшей транспортировки в Донбасс. Но благодаря этому тяжелому и мощному, как танк, грузовику у священников впервые появилась идея походного храма. «Ведь наши поездки должны совершаться не только с целью доставить гуманитарный груз, но и исполнить свое прямое назначение, — говорит Зиньков. — А оно понятно: мы православные священники, и значит, наша главная задача — духовная миссия. Появится у нас мобильный храм — будем проводить там литургии, крестить, исповедовать и причащать».
Собственно, всем этим чистопольские военные священники и так занимаются в зоне СВО. К примеру, Икрамов, находясь в Донбассе, уже крестил 114 бойцов, а скольких исповедовал и причастил, и сам точно не помнит — может быть, не меньше тысячи. Спрашиваю его:
— Вы ведь уже проводили богослужения в военно-полевых условиях. Чем это отличалось от нынешней задумки?
Р.
План, по словам Икрамова, примерно следующий: после Святой Троицы, которая в этом году выпала на 4 июня, военные священники под руководством Зинькова выезжают из Чистополя с очередным грузом гумпомощи и частью церковного инвентаря для походного храма. В Донбассе их встречает Икрамов, помогает в развозке и распределении груза, после чего все вместе они отправляются в Луганск для исполнения главной задачи — открытия и освящения храма, который будет находиться в подчинении синодального военного отдела (полное наименование — отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ).
Между прочим, в зоне СВО далеко не всегда удается передвигаться в церковном облачении. На многочисленных фотографиях, сделанных военными священниками на спецоперации, очень часто видишь их в камуфляже, солдатских касках и бронежилетах.
«Мы ведь понимаем, что едем в зону СВО на свой страх и риск. Нельзя совсем не бояться, но можно забывать об этом ради чего-то более важного»
— Это такое требование со стороны военных или меры самозащиты?
Т.М.: Это в первую очередь меры самозащиты, поскольку никогда неизвестно, как сложится ситуация в дороге. Когда мы проезжаем через Изварино, границу Ростовской и Луганской областей, там сразу становится немного напряженно. Поэтому мы всегда наготове — под рукой походная тактическая аптечка, бронежилеты, каски, несколько литров питьевой воды и несколько сухпайков — на всякий случай.
Р.И.: В Луганске мы обычно перегружаемся на уазик и развозим гумпомощь по позициям. В Луганской области есть ряд квартир, арендованных синодальным военным отделом, — здесь могут остановиться военные священники, прибывающие в зону СВО. К тому же за время наших поездок мы обзавелись на месте друзьями и боевыми товарищами, которые всегда готовы оставить нас на ночлег настолько, насколько нам нужно. Плюс не будем забывать, что Луганск хотя и прифронтовой город, но продолжает жить обычной жизнью, там все функционирует, работают гостиницы, причем очень неплохие.
— Не опасаетесь, что в случае широко разрекламированного украинского контрнаступления Луганск может оказаться в той же ситуации, что и Донецк?
Т.М.: Теоретически это возможно, но мы ведь понимаем, что едем в зону СВО на свой страх и риск. Когда мы видим глаза бойцов и просто мирных людей, живущих там, и понимаем, что мы им нужны, чувство опасности немного притупляется. Нельзя совсем не бояться, но можно забывать об этом ради чего-то более важного.
Нельзя совсем не бояться, но можно забывать об этом ради чего-то более важного.
— Я слышал, что иногда вы даже дарите бойцам свои бронежилеты — тем, кто в этом наиболее нуждается.
Р.И.: Это было у меня в первую поездку. Мне выдали бронежилет, и поскольку я его сам не покупал, то, уезжая, просто передал его другому военному священнику, который прибыл без «брони». А к примеру, отец Тимофей отдал личную каску своему бывшему алтарнику, который сослужил ему в церкви с 13 лет. Это было задолго до нынешних событий на Украине, но еще тогда этот молодой человек заключил военный контракт и ушел в спецназ. Мы его нашли в Донбассе, увидели, что у него и каска в плачевном состоянии. А у отца Тимофея и техника, и обмундирование — хоть куда. Поэтому он не выдержал и говорит парню: «Бери мою каску».
Т.М.: Кстати, у каждой каски есть внутренняя «шапочка», на которую она надевается. Есть хорошие «шапочки», есть просто веревочные, а есть состоящие из ватных тампонов. С ватой легче ходить, чем с теми же веревками, которые со временем начинают сильно давить на голову. И вот когда мы разговорились с бойцом по поводу касок, он посмотрел на мою и говорит: «Вот бы мне такую». Я отвечаю: «Так у нас как раз такая и есть». После чего мы с ним просто поменялись касками. Самое интересное, когда я взял его каску и начал приводить ее в порядок, я обнаружил там очень глубокую отметину от осколка с левой стороны — сантиметра на полтора по касательной и размером примерно с ноготь мизинца. То есть хороший такой осколок. Если бы он прошел по телу, это было бы серьезное ранение.
С ватой легче ходить, чем с теми же веревками, которые со временем начинают сильно давить на голову. И вот когда мы разговорились с бойцом по поводу касок, он посмотрел на мою и говорит: «Вот бы мне такую». Я отвечаю: «Так у нас как раз такая и есть». После чего мы с ним просто поменялись касками. Самое интересное, когда я взял его каску и начал приводить ее в порядок, я обнаружил там очень глубокую отметину от осколка с левой стороны — сантиметра на полтора по касательной и размером примерно с ноготь мизинца. То есть хороший такой осколок. Если бы он прошел по телу, это было бы серьезное ранение.
«Мы обещали мобилизованным, что до каждого из них постараемся доехать, когда будем в Донбассе. Чем до сегодняшнего дня мы и стараемся заниматься. Мои одноклассники, к примеру, тоже сейчас воюют — они пошли туда по мобилизации»
«Символично, какой популярностью пользуются в зоне СВО шевроны с Казанской иконой Божией Матери»
Известно, что участие в боевых действиях зачастую больно бьет не только по телу солдата, уязвимому для осколков и пуль, но и по душе.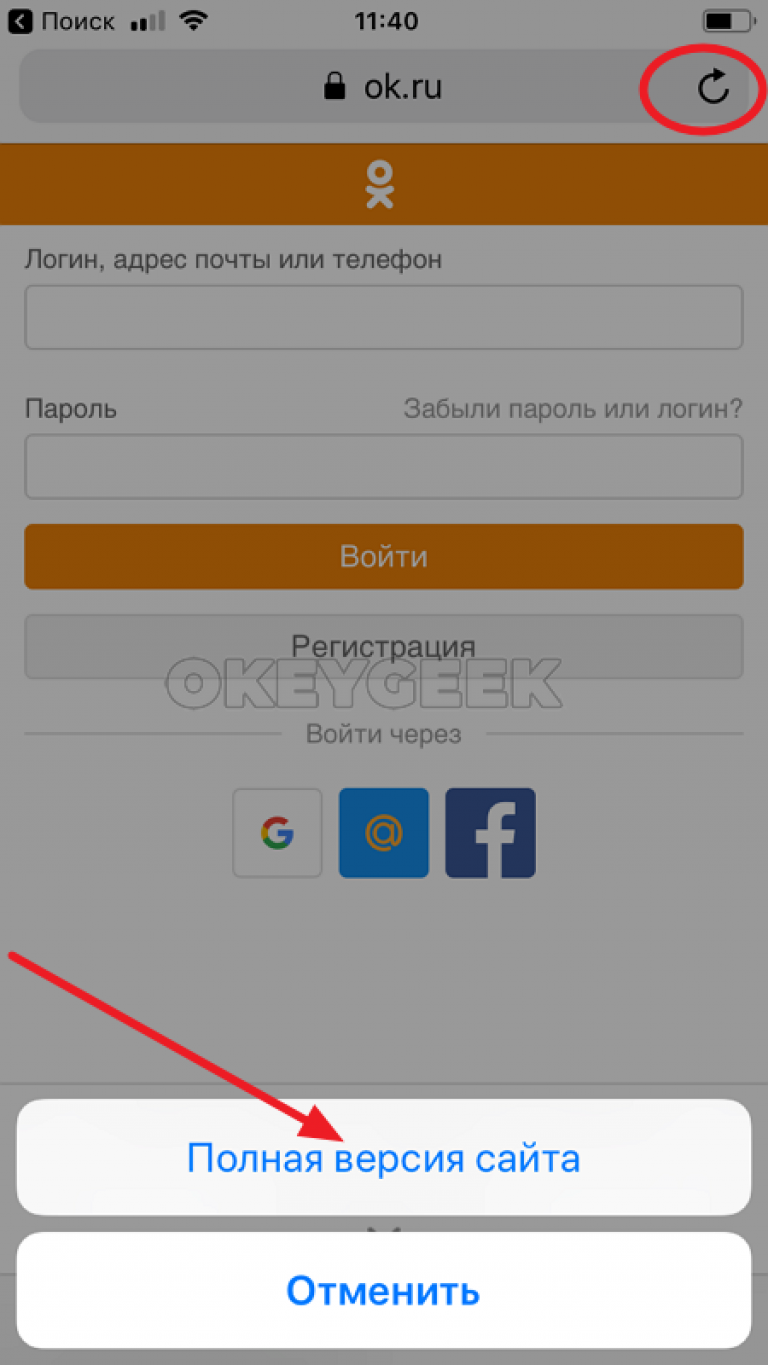 Некоторые получают своего рода духовную контузию и живут потом с ней всю жизнь. В прессе это почему-то обычно называют синдромом: к примеру, в США часто говорят о вьетнамском синдроме, а у нас — об афганском, чеченском. Лечится это с большим трудом, и все же смягчить и заговорить душевную рану можно, особенно когда она еще свежая. В связи с этим я обращаюсь к военным священникам с «неканоническим» вопросом:
Некоторые получают своего рода духовную контузию и живут потом с ней всю жизнь. В прессе это почему-то обычно называют синдромом: к примеру, в США часто говорят о вьетнамском синдроме, а у нас — об афганском, чеченском. Лечится это с большим трудом, и все же смягчить и заговорить душевную рану можно, особенно когда она еще свежая. В связи с этим я обращаюсь к военным священникам с «неканоническим» вопросом:
— Приходилось ли кому-то из вас в зоне СВО выступать в роли психолога?
Р.И.: Помнится, в Донецке в батальоне имени Александра Невского был один солдат, с которым работали психологи. Комиссовать его не могли. Общения с другими он избегал, но со мной беседовал около двух часов. Как мне потом подтвердил его командир, этот солдат ни с кем так долго прежде не разговаривал. «А тут подхожу к кабинету и вижу, что вы оба сидите и смеетесь», — удивлялся тогда этот командир. Мне, как священнику, было приятно, что я смог помочь человеку. Конечно, это не прерогатива священников — быть психологами, но это тоже духовная работа. Наверное, психолог, если не получил соответствующего образования, не может быть священником, а вот священник может и даже обязан быть психологом.
Наверное, психолог, если не получил соответствующего образования, не может быть священником, а вот священник может и даже обязан быть психологом.
Т.М.: Еще до СВО мы постоянно контактировали с ветеранами боевых братств, действующими военнослужащими, дембелями. Поэтому, когда началась частичная мобилизация, мы общались как с теми, кто попал под призыв, так и с их родственниками, детьми. В этом случае мы тоже как бы выполняли функцию психологов, тем более что люди, с которыми мы беседовали, в большинстве своем нас уже знали и доверяли нам. Когда осенью 2022 года случился протест на Казанском танковом полигоне, нам довелось участвовать в его умиротворении. Именно там мы впервые отслужили церковную литургию в походных палатках — вместе с казанским владыкой Кириллом. Мы обещали мобилизованным, что до каждого из них постараемся доехать, когда будем в Донбассе. Чем до сегодняшнего дня мы и стараемся заниматься. Мои одноклассники, к примеру, тоже сейчас воюют — они пошли туда по мобилизации.
— Скажите, а какие истории из своего личного «боевого» опыта вы могли бы вспомнить?
Т.М.: Мне запомнилась первая поездка. Когда мы приехали вечером в Луганск, там, казалось, не было ни души — все вокруг было пустынно. Мы переночевали, и, как только наступило утро, все переменилось. Как в советских фильмах, чувство тревожности ушло, и ему на смену возникло что-то светлое и хорошее. В 6 утра начал ходить общественный транспорт, на улицах появились прохожие, спешащие на работу. В городе, как мне показалось, было очень чисто, разве что попадался изношенный асфальт. Автобусная остановка была свежепокрашенной, но уже заклеенной всевозможными объявлениями — свидетельство того, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Люди в Луганске приветливые — чувствуется теплое отношение, которое далеко не во всех городах России встретишь.
Р.И.: Мне вспоминается момент, когда мы разыскали в зоне СВО нашего земляка, мальчишку, чтобы передать ему личную посылку от матери. Одновременно мы чудом наткнулись на других наших земляков. Они увидели номер нашего автомобиля, 16-й, татарстанский, регион, а мы услышали татарскую речь. Мы все-таки все живем в РТ, так что объясниться по-татарски умеем. Мы отдали им генераторы, бензопилы, оборудование — все это было совершенно не запланировано ни для них, ни для нас. Люди были приятно удивлены, что это можно было сделать вот так, не договариваясь. Просто увидели знакомых людей и подарили им необходимые для них вещи — казалось бы, что тут такого? А на душе при этом воспоминании становится тепло.
Одновременно мы чудом наткнулись на других наших земляков. Они увидели номер нашего автомобиля, 16-й, татарстанский, регион, а мы услышали татарскую речь. Мы все-таки все живем в РТ, так что объясниться по-татарски умеем. Мы отдали им генераторы, бензопилы, оборудование — все это было совершенно не запланировано ни для них, ни для нас. Люди были приятно удивлены, что это можно было сделать вот так, не договариваясь. Просто увидели знакомых людей и подарили им необходимые для них вещи — казалось бы, что тут такого? А на душе при этом воспоминании становится тепло.
А.З.: А мне запомнилось, когда мы с отцом Тимофеем ехали из Северодонецка, остановились на КПП и принялись раздавать письма, открытки, шевроны, детские рисунки из воскресных школ. Люди были искренне удивлены, увидев священников из «большой России». Кажется, это было для них впервые. Детские письма бойцы принимают как святыню, некоторые зашивают их в гимнастерку как своеобразный «талисман».
org/ImageObject» itemprop=»image»> «Негативного отношения к священникам мы там вообще не встречали, даже ни разу не слышали в свой адрес слова «поп»В.И.: Помнится, мы заехали в военный госпиталь, начали выгружать оборудование для реабилитации — коляски, трости. И вот один из раненых бойцов, у которого ниже колена была ампутирована нога, буквально сразу же сел в нашу коляску и поехал на наших глазах. Медсестра ему тогда сказала: «Ты не дойдешь на костылях, поэтому бери каталку». То есть то, что мы привезли, было насущно необходимо и сразу же востребовано.
Еще для меня и моих товарищей глубоко символично, какой популярностью пользуются в зоне СВО шевроны с Казанской иконой Божией Матери. Эти шевроны мне передал один человек, который организовал свое производство под Самарой и там же их изготовил на свои средства. А ведь что такое шеврон для бойца? Для участника спецоперации он в чем-то соответствует твоему статусу, это твое внутреннее настроение. Кто-то икону может себе на плечо нашить, а кто-то — совершенно иное. Встречаются даже ироничные шевроны, например «Нет ума — штурмуй дома». Но отношение к вере в воюющем Донбассе особое. Негативного отношения к священникам мы там вообще не встречали, даже ни разу не слышали в свой адрес слова «поп». Что до богородичных шевронов, то мы выдаем их не всем подряд, а только тем, кто понимает, что это такое.
Кто-то икону может себе на плечо нашить, а кто-то — совершенно иное. Встречаются даже ироничные шевроны, например «Нет ума — штурмуй дома». Но отношение к вере в воюющем Донбассе особое. Негативного отношения к священникам мы там вообще не встречали, даже ни разу не слышали в свой адрес слова «поп». Что до богородичных шевронов, то мы выдаем их не всем подряд, а только тем, кто понимает, что это такое.
— Скажите, а как семьи относятся к тому, что вы часто находитесь в зоне повышенного риска?
Т.М.: Переживают, конечно, но относятся с пониманием и уважением. Между прочим, когда отец Ростислав отправился в первую командировку, ему нужна была помощь, и тогда вызвался поехать я, но не один, а с моей женой. Так она своими глазами увидела все, что там происходит, и поняла, что в нашей работе есть необходимость. Сейчас она уже спокойнее отпускает меня.
Р.И.: Если священник едет от синодального военного отдела, некие гарантии защищенности присутствуют. В нашем случае, когда мы едем с гуманитаркой, мы берем благословение у правящего епархиального архиерея (в настоящее время епархией руководит епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий). К тому же в каждой епархии есть фонд взаимопомощи, так что ни в коем случае никто не оставит священника в беде.
В нашем случае, когда мы едем с гуманитаркой, мы берем благословение у правящего епархиального архиерея (в настоящее время епархией руководит епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий). К тому же в каждой епархии есть фонд взаимопомощи, так что ни в коем случае никто не оставит священника в беде.
— А государство не предоставляет никаких гарантий?
Р.И.: Я думаю, что государству сейчас не до этого. А у нас нет времени ждать, пока правовое поле зарегламентируют. Мы духовные воины, наши законы прописаны в Священном писании, и мы обязаны действовать здесь и сейчас, отдавая свою судьбу на волю Господа.
Classmate Game — Etsy New Zealand
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
 (
389 релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.
)
(
389 релевантных результатов,
с рекламой
Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.
)11 классических игр и зачем их использовать в классе ‹ EF Teacher Zone
«Я действительно хочу скучать без ума», — сказал ни один ученик, никогда.
«Надеюсь, у моих учеников глаза стекленеют в классе», — никогда не говорил ни один учитель.
Учеба — дело серьезное. Но это не значит, что студенты не должны получать удовольствие от этого. На самом деле, игры повышают мотивацию, помогая учащимся расслабиться, раскрыться и отвлечься во время обучения. И помните: если вы не обучаете хирургии на открытом сердце, прыжкам с парашютом или тому, как безопасно направить космическую миссию обратно на Землю, вы можете быть уверены, что игра является вполне подходящим дополнением к вашему классу!
Зачем играть? Как и вы, ваши ученики пришли на занятия, неся с собой багаж своего дня. Хотя их занятия с вами — лишь один из компонентов их жизни, они, скорее всего, важны для них как в профессиональном, так и в личном плане. Что бы ни думала великая тетя Сильвия, время, проведенное за игрой в классе, не является потраченным впустую временем. Наоборот, игры идеально подходят для тренировки словарного запаса и улучшения грамматики; таким образом, укрепляя дух товарищества за счет легкой конкуренции, повышая уровень энергии, снижая стресс, способствуя решению проблем и покупая более целенаправленное время для занятий позже в течение часа. Хотя ясно, что дети и новички сияют ярче во время игры, также верно и то, что взрослые и продвинутые учащиеся любят соревнования и более легкие моменты в классе. Это не означает, что вы должны превратить свой класс в постоянный манеж, скорее, добавление моментов игры создает контраст в классе и позволяет учащимся всех типов обучения процветать. Ниже приведены одиннадцать классических игр, которые можно адаптировать для разных уровней навыков.
Хотя ясно, что дети и новички сияют ярче во время игры, также верно и то, что взрослые и продвинутые учащиеся любят соревнования и более легкие моменты в классе. Это не означает, что вы должны превратить свой класс в постоянный манеж, скорее, добавление моментов игры создает контраст в классе и позволяет учащимся всех типов обучения процветать. Ниже приведены одиннадцать классических игр, которые можно адаптировать для разных уровней навыков.
1. Казино
Разделите учащихся на группы и дайте каждому бюджет, скажем, 100€ мифических денег. Объясните, что они собираются поставить свои деньги, чтобы попытаться выиграть больше (установить минимальную ставку). Напишите на доске неверное предложение, адаптировав серьезность ошибки к уровню вашего класса, и попросите каждую группу определить ошибку, записать ее и сделать ставку. Группы, обнаружившие ошибку, выигрывают, а те, кто этого не делает, теряют свою ставку. Повторите несколько раз.
2. Фигурки, шарады и головы знаменитостей
Всегда классические, эти игры очень универсальны, позволяют учащимся практиковать определенный словарный запас и выражения, а также создают приятную атмосферу. Создайте стопку слов, фраз, понятий или исторических личностей, которые недавно изучал ваш класс, и попытайтесь смешать уровни между командами. Вы можете поэкспериментировать, играя всем классом (где половина соревнуется с другой половиной) или небольшими группами с ограничениями по времени.
Создайте стопку слов, фраз, понятий или исторических личностей, которые недавно изучал ваш класс, и попытайтесь смешать уровни между командами. Вы можете поэкспериментировать, играя всем классом (где половина соревнуется с другой половиной) или небольшими группами с ограничениями по времени.
3. Табу
Это отличный способ заставить учащихся говорить и практиковать словарный запас вашего модуля. В табу один учащийся должен сообщить своему партнеру понятие или слово, не используя определенный список связанных слов. Например, они должны заставить своего партнера сказать «лес», но им нельзя использовать слова «дерево», «лес», «шервуд» или «черный». Как только партнер произносит слово, ученики меняются ролями.
4. Двадцать предметов
Положите на стол 20 предметов и дайте учащимся минуту, чтобы они запомнили их. Накройте предметы тканью и попросите учащихся записать столько предметов, сколько они смогут вспомнить. Вы можете использовать объекты, относящиеся к вашему текущему учебному модулю или связанные каким-либо другим образом.
5. Категории
Разместите на доске простую таблицу с разными категориями в каждом столбце, например: президенты США, реки, фрукты, названия фильмов, имена мальчиков, эмоции, животные, города. (Измените категории сложности в соответствии с уровнем вашего класса.) Произвольно выберите букву алфавита. Теперь в течение отведенного времени группы или пары учащихся должны определить по одному примеру в каждой категории. Побеждает первая группа, правильно сделавшая это.
6. Бинго
Эту классическую игру часто забывают, и ее можно легко адаптировать под нужды вашего класса. Помимо классического бинго, вы можете создавать игровые доски, на которых учащиеся вычеркивают картинки, антонимы, синонимы или слова T1.
7. Скороговорки
Скороговорки отлично подходят для поднятия настроения, в качестве разминки или начала каждого занятия. Поищите более сложные фразы для продвинутых классов — вы увидите, что редкий ученик не улыбается! Начните с этого причудливого списка скороговорок — некоторые простые, а некоторые очень запутанные!
8.
 Изюминка Twister
Изюминка TwisterСделайте Twister изюминкой, спрятав цветные диски со словами, фразами, выражениями и целевым языком, написанными на них. Студенты должны карабкаться, чтобы найти их с ограничением по времени. Усложняйте задачу, скрывая зашифрованные сообщения, тексты с грамматическими ошибками или описания, которые необходимо исправить или собрать воедино.
9. «Первым на фронт» и «Бывали ли вы когда-нибудь?»
Это победитель для детей и взрослых. Учащиеся начинают в линию в конце класса и делают один шаг вперед за каждый правильный ответ на вопрос, законченное предложение или угаданное слово. Побеждает тот, кто окажется впереди. Вы также можете сыграть в версию «Вы когда-нибудь?» где студенты делают шаг вперед за каждую вещь, которую они сделали. («Вы когда-нибудь были в Африке, видели дельфина, не спали всю ночь, провалили экзамен, разбили что-то ценное и т. д.»)
10. Я напутал
В этом упражнении продвинутые учащиеся рассказывают истории о своих языковых ошибках в «реальном мире».